Кто я и где сейчас, не имеет значения. Придет время, и вы узнаете мое имя. А может быть, не узнаете никогда. Но поверьте: все, о чем я рассказываю, - правда.
Скажите: вы что делаете по вечерам? По вечерам, когда на город опускаются сумерки? Включаете телевизор? Или одеваетесь в театр? А может быть, просто садитесь ужинать?
Я, например, частенько прихожу на этот мост. Я люблю облокотиться о перила и стоять здесь, глядя, как огни танцуют на воде.
В вашем городе (он и мой и всегда останется моим, хотя я не был в нем много лет) сумерки розоватые, сиреневые, пастельные. Я их помню.
Здесь они черные. Черные и тяжелые, как громады домов вокруг. Они мрачные. А может быть, мне только так кажется, потому что этот город чужой (хотя я прожил в нем много лет).
Но на мосту все же светлее. Разноцветные огни реклам то вспыхивают, то гаснут. И когда смотришь в воду, видишь, как, опрокинувшись туда, они бесшумно танцуют какой-то странный - не то веселый, не то отчаянный - танец.
Это отвлекает.
И потом на мосту пустынно. Здесь труднее подойти ко мне незаметно. Это не главное, но тоже имеет значение.
Главное в другом. В эти минуты, что я стою над рекой, облокотившись о перила, я выключаюсь из моей нынешней жизни, из которой больше чем на короткие минуты мне выключаться не дано.
Это время я с вами, в вашем и моем городе, в который я когда-нибудь вернусь...
Стоя здесь, я вспоминаю о многом, о чем, пока я не дома, лучше было бы не помнить. Потому что, когда я вспоминаю, я уже не тот, кем должен быть здесь. Именно поэтому я прихожу на этот мост не так уж часто и всего на несколько минут. Полчаса - самое большее.
Полчаса - это очень мало. Разве многое может вспомнить за полчаса человек, у которого голова давно поседела, которому давно за пятьдесят?
Впрочем, седина пришла ко мне рано. Я тогда еще был мальчишкой, ходил в невысоких чинах. Ну, не совсем мальчишкой, но по сравнению с собой сегодняшним...
До того у меня волосы были рыжие. Лена называла меня Подсолнух, и я очень сердился. Подсолнух! Это звучало нелепо и неромантично. Подсолнух в сто восемьдесят сантиметров ростом и весом в девяносто килограммов!
- Ну, хорошо, - говорила Лена. - Не подсолнух - дуб. Хочешь, я буду называть тебя дубом? По-твоему, это красивее?
Она всегда немного, посмеивалась надо мной. Посмеивалась и гордилась. Когда однажды непонятно зачем я снялся статистом в «Александре Невском», изображая немецкого пса-рыцаря, Лена хвасталась всем подругам: «Мой Подсолнух-то в кинозвезды выбился!»
Тогда я еще не был седым. Это пришло позже.
А в те времена я был молод, но, конечно, не мальчишка. В краю, где побывает война, мальчишек не остается.
Вот чин у меня действительно был невысокий - младший лейтенант. Это в Советской Армии. А в немецкой я был капитаном. Странно, правда? Ничего, в моей профессии еще не то бывает.
Чтобы стать хорошим разведчиком, надо многому научиться. Если инженер или бухгалтер плохо изучат свое дело, они станут плохими работниками; если разведчик - он станет мертвецом.
И я учился.
Лена никогда не спрашивала меня ни о чем. Может показаться смешным, но с первой нашей встречи на пляже она никогда ни о чем меня не расспрашивала.
Я шел за нею от самой остановки автобуса и страшно обрадовался, убедившись, что она пришла одна. Расположился рядом. Стал смотреть. Вид у нее был гордый, и я принялся обдумывать план атаки. Она тоже посмотрела на меня - презрительно и вызывающе. Потом вынула из сумки колоссальное краснощекое яблоко и вгрызлась в него. Съев яблоко, опять посмотрела на меня и стала листать журнал. Наконец бросила взгляд на часы, повернулась ко мне и сказала:
- Без двадцати двенадцать!
Я не сразу понял, удивился.
- Ну, а что же, - пояснила она с раздражением, - так и будем время терять? Вы ведь все равно рано или поздно спросите, который час.
Посмеялись. Познакомились. На следующий день встретились. С тех пор до самого моего отъезда встречались чуть не каждый день.
И все это время она ни о чем не спрашивала. Ни о чем не догадывалась? Чепуха! Она, конечно, догадывалась и потому-то и не спрашивала. Она доверяла мне, доверяла до самого конца.
Мне было не всегда легко. Я много учился, и это было тяжелое учение. Я знал, что меня ждет впереди, и это было грудное ожидание. Лена снимала все - усталость, грусть, сомнения. Она всегда была веселой, задорной, уверенной в завтрашнем дне. Как-то я застал ее гадающей на картах.
- Это чтоб убедиться, что все получается наоборот, - серьезно объяснила она.
Но однажды наступил день, за которым не было завтра. Она, конечно, ждала его, знала, что он когда-нибудь придет. Просто надеялась, что это будет не скоро. А это произошло примерно за год до войны.
Я сказал ей накануне.
Пригласил ее в ресторан, заказал шампанское и сказал, что уезжаю. Сам не знаю почему, но мне хотелось быть с ней на людях в эту первую минуту разлуки (ведь в тот вечер разлука уже постучалась к нам).
Я не знал, как Лена поведет себя. Может быть, я не доверял ей?
Или себе?
Она сидела, не поднимая глаз, надув пухлые губы, словно злясь на что-то, теребила ремешок своей потрепанной сумочки...
Я не стал ее обманывать, говорить, что еду в легкую командировку, что скоро вернусь...
Я прямо сказал, что уезжаю надолго, возможно, на много лет, что, может быть, вообще не вернусь.
- Я знаю, - сказала она.
Я объяснил, что не только не беру с нее никаких обещаний, но что единственное, чего бы мне хотелось, это чтоб она была счастлива. Пусть даже с другим - раз нет меня, - но пусть будет счастлива.
- Не смогу, - сказала она.
Я объяснил ей, что надвигаются трудные времена, что может быть война и что, если даже войны не будет для других, она все равно будет для таких, как я, и неизвестно, сколько она продлится, и что ждать меня наивно и глупо.
- Ничего, дождусь - сказала она. И подняла глаза. Она не плакала.
Она смотрела спокойно и весело, как всегда. Я понял, что она твердо верит в нашу встречу и хочет, чтоб и у меня была эта вера. Чтоб мы оба считали, что я еду в случайную командировку, ненадолго и недалеко. Чтоб то, о чем пишут в книгах и в существование чего в реальной жизни мы не очень-то верим, не свалилось на нее. Она хотела, чтоб я был аспирантом в каком-то закрытом институте, как это считалось до сих пор, чтоб в воскресенье уноситься на лыжах в розовеющие морозные дали, а прощаясь по вечерам самозабвенно целоваться в подъезде.
Чтоб у нее было, как у других.
Она, конечно, все время догадывалась, но и все время мечтала. Вот кончит свой инъяз, поженимся, будем работать вместе...
- Готовить я не умею, имей в виду, - говорила она, воинственно глядя на меня. - В этом деле я - шляпа. Ты, между прочим, тоже. Будем ходить по друзьям. Составим график - и будем ходить.
Несколько минут, размахивая руками, она фантазировала на эту тему. Потом, как всегда неожиданно, следовал вывод:
- Лучше будем голодать, но вдвоем. Правда? Вот о чем я мечтаю, чтоб все время быть вдвоем!
А я все время знал, что мы никогда не будем вдвоем, что не поженимся, что все это так и останется мечтой. Но до того вечера не мог ей об этом сказать.
В тот вечер в ресторане oт всех ее надежд не осталось следа.
Она смотрела на меня спокойно и весело. Но было в ее взгляде какое-то яростное отчаяние...
...Прошло тридцать с гаком лет. Я теперь женат. Сын кончает институт (он не помнит меня, если знает, так по фотографиям). Чинов и орденов мне не занимать (орденов, которых мне ни разу не довелось надеть).
Мы шли с Леной по жизни разными, хотя и сходными путями. В начале войны я занимал уже в немецкой армии важный пост. Потерять его было бы катастрофой. И мне не уставали напоминать об этом: «строжайше соблюдать конспирацию», «ни при каких обстоятельствах зря не рисковать», «мелочами не заниматься», «сосредоточиться на главном» - читал я чуть ли не в каждом указании.
И я конспирировался, не рисковал, сосредоточивался...
Кутил с другими офицерами, льстил начальству, терроризировал подчиненных и прославлял фатерланд.
У меня все шло гладко. Я не делал ошибок (ведь разведчик, как минер, ошибается только раз). Поэтому я и могу стоять сейчас здесь на мосту и вспоминать прошлое.
А вот судьба Лены сложилась по-другому. Она кончила свой инъяз и нашу школу. (Почему она пошла туда? Надеялась встретиться со мной где-нибудь на наших тайных, неведомых путях?) Ее сбросили к немцам в тыл. Через три месяца она уже работала в комендатуре, а через четыре ее взяли.
На войне только для личного дела год считается за два, а для сердца надо мерить иными мерами. Все мы вышли из нее мудрецами. Лена была слишком доверчива, слишком молода во всем. Она слишком любила жизнь, чтоб бояться ее потерять.
Она не верила в смерть.
Мне известно со всеми подробностями, как она умерла.
...Это было в маленьком оккупированном городке, где раскрыли подпольную организацию. Так часто бывало: десять умирали, ничего не сказав, говорил один, но этим он обрекал на смерть еще десятерых.
Подпольная организация была крупной, она хорошо поработала. А теперь вовсю работали следователи гестапо, чтоб уж никого и ничего не осталось.
Из центра прибыл важный генерал.
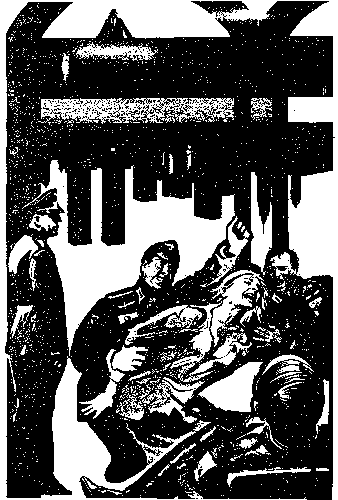 Когда, сопровождаемый адъютантом, комендантом и дежурным, он вошел в камеру, допрос был в разгаре. Двое солдат с засученными рукавами держали Лену за связанные за спиной руки. Следователь, молодой лейтенант, бил ее стеком по лицу и груди. Какая-то жалкая кофтенка, что была на ней, совсем изорвалась, голое тело рассекли багровые рубцы...
Когда, сопровождаемый адъютантом, комендантом и дежурным, он вошел в камеру, допрос был в разгаре. Двое солдат с засученными рукавами держали Лену за связанные за спиной руки. Следователь, молодой лейтенант, бил ее стеком по лицу и груди. Какая-то жалкая кофтенка, что была на ней, совсем изорвалась, голое тело рассекли багровые рубцы...
Она старалась хоть как-нибудь уберечь голову, отводила ее, пыталась втянуть в плечи. Спутанные волосы закрывали лицо и, словно на ветру, мотались из стороны в сторону вслед за ударами.
При появлении генерала лейтенант бросил стек и вытянулся. Он устал, лицо его блестело от пота, волосы черными прядями прилипли ко лбу, но в присутствии начальства он не рискнул снять китель.
Генерал, высокий, сухой, сел в затемненном углу, адъютант торопливо закурил, дежурный и комендант присели у двери. Следователь пожал плечами, виновато усмехнулся: не получается, мол.
Когда генерал и его свита вошли, Лена бросила на них быстрый взгляд. На мгновение этот взгляд застыл. Она задергалась в руках солдат, безнадежно пытаясь прикрыть свою наготу.
Комендант и дежурный ухмыльнулись, адъютант посмотрел на допрашиваемую равнодушными, пустыми глазами, и только генерал внимательно наблюдал за происходящим.
Волосы Лены, которые она когда-то, сопя и досадливо вздыхая, расчесывала перед зеркалом, сейчас слиплись от крови. Раньше, когда она улыбалась (а она часто улыбалась), зубы ее - предмет великой гордости - сверкали. Теперь их не было. И она старалась скрыть это, как могла, сжимая изувеченные губы.
Глаза были закрыты. Лишь на мгновение веки неожиданно вскидывались, и тогда отчаяние, ярость и боль, горевшие в этих темных глазах, словно вспышка, освещали полутемную комнату.
Генерал нетерпеливо махнул рукой. Следователь щелкнул огромной, сделанной из малокалиберного снаряда настольной зажигалкой и поднес ее к лицу Лены.
Это неправда, что во время пыток самые стойкие не кричат. Когда боль перерастает отмеренное человеку, он не может не кричать. Но самые стойкие и в эту минуту молчат. Они кричат от немыслимой боли, но молчат о том, что этой болью у них стараются вырвать.
Лена тоже кричала. Но не ответила ни на один из вопросов. Потом она потеряла сознание, и солдаты, тяжело дыша, завозились с ведрами с водой.
Остальные отдыхали. Адъютант курил уже, наверное, двадцатую сигарету, устремив в пространство свой пустой, ничего не выражавший взгляд, словно был он сейчас где-то за тысячу верст) комендант и дежурный поглядывали на женское обнаженное тело и шепотом обменивались веселыми замечаниями) генерал бросал на следователя недовольные взгляды, а тот кусал ногти. У него дергался глаз.
Камера была в глубоком подвале, небольшая. От запаха пота, крови и смерти (смерть тоже имеет свой запах, поверьте!), смешанного с густым табачным дымом, было трудно дышать.
Некоторое время в камере стояла тишина. Только солдаты пыхтели и шаркали сапогами, приводя Лену в чувство. Следователь курил, руки у него дрожали, ему было неловко перед генералом. А тот неподвижно сидел в своем затемненном углу и внимательно смотрел на всех.
Лена была сильной, отличной спортсменкой.
Когда-то, давно-давно, еще в той жизни, она любила ходить со мной на лыжах. Порой где-нибудь на опушке, отмахав двадцатый километр, я останавливался, опершись на палки, и ждал. Лыжник я был отличный.
Не проходило и нескольких минут, как из-за поворота появлялась Лена. Разрумянившаяся, с густым инеем на бровях и ресницах, она мчалась, нахмурив лоб, крепко сжав пухлые губы. Упрямая, она бежала и бежала за мной, не позволяя себе отстать, и, увидев, что догнала, мгновенно преображалась. Глаза начинали блестеть, она радостно улыбалась и, стараясь скрыть, что запыхалась, кричала:
- Сморчок... хлюпик... на кого лыжу поднял!..
Лена никогда не болела, и сразу впадала в панику, если у кого-нибудь из друзей или родственников обнаруживался насморк. Она могла ночь напролет танцевать или готовиться к зачетам, промокнуть насквозь под дождем или часами жариться на солнце.
Но все это было еще в той жизни.
Там она смеялась над своим здоровьем. Теперь оно мстило ей.
Под пытками здоровый человек труднее умирает. Медленнее и мучительнее.
Допрос длился долго.
Под конец следователь перестал обращать внимание на генерала. Он сбросил китель, расстегнул рубашку. Солдаты взмокли. Он загонял их - они разжигали паяльную лампу, калили на ней плоскогубцы, что-то не ладилось с тисками...
Адъютанту все это, видимо, надоело, он вытащил пистолет и играл им, то разряжая, то снова заряжая его. Комендант беспрестанно зевал, а дежурный вынул бутерброд и, улучив момент, когда генерал не смотрел на него, откусывал большой кусок и замирал потом с набитым ртом.
Вдруг в какое-то мгновение солдаты не смогли удержать Лену, она вырвалась и в предельном, уже нечеловеческом усилии, метнулась к двери - обгоревшая, вся в крови, слепая.
Тогда лейтенант не выдержал. Он как-то странно всхлипнул. Бормоча ругательства, ломая ногти, вырвал из кобуры пистолет.
Он выпустил в нее все девять пуль. В комнате было трудно дышать от заполнившего ее сизого дыма.
Лена лежала у двери, так и не выпустив ручку, которую в последнем бесполезном усилии пыталась дернуть. Солдаты застыли неподвижно, со страхом глядя на следователя. А он трясущимися пальцами застегивал китель, стараясь не смотреть в сторону генерала.
Тот молча встал, перешагнул через тело и вышел в коридор.
Толкаясь у двери, адъютант, комендант и дежурный бросились за ним.
- Неврастеник... - ворчал генерал, - проиграл девчонке... истерик.
Свита суетливо поддакивала.
...Вот как это произошло. Так она умерла.
Вас интересует, почему я знаю об этом так подробно? Потому что адъютант того генерала был моим человеком... Он сообщил мне все это той же ночью.
Наутро, когда ординарец пришел будить меня, я еле встал. У меня все болело - голова, сердце. И еще была какая-то странная боль. Боль внутри, что ли, боль души. Это трудно объяснить. Позже голова и сердце прошли, а та, другая боль осталась навсегда. Она и сейчас со мной.
Я много думал потом. Наверное, это нужная боль, она не дает забыть о тех, кто не дошел с нами в сегодняшний день, кого мы потеряли в пути. Она, как огонь над могилой, вечно напоминает о них...
С тех пор было много всего. О разном я вспоминаю, стоя вот как сейчас на мосту. То об одном, то о другом.
А о ней я помню всегда. Ее боль всегда со мной.
Александр Кулешов
